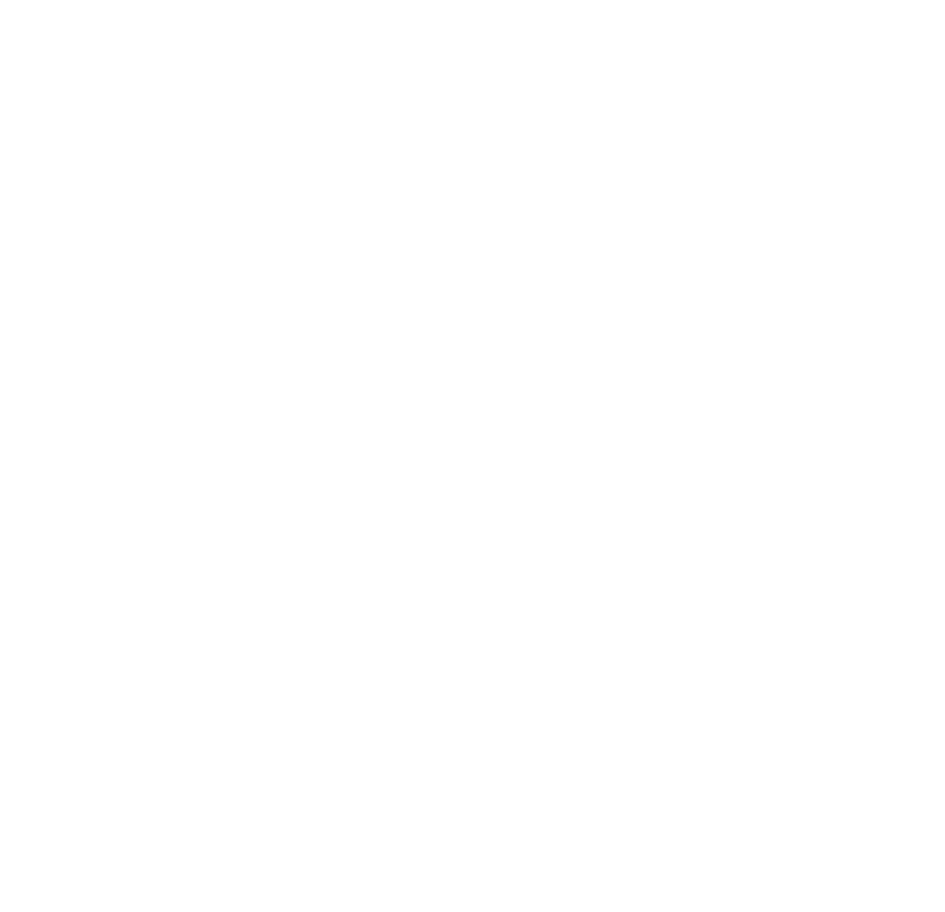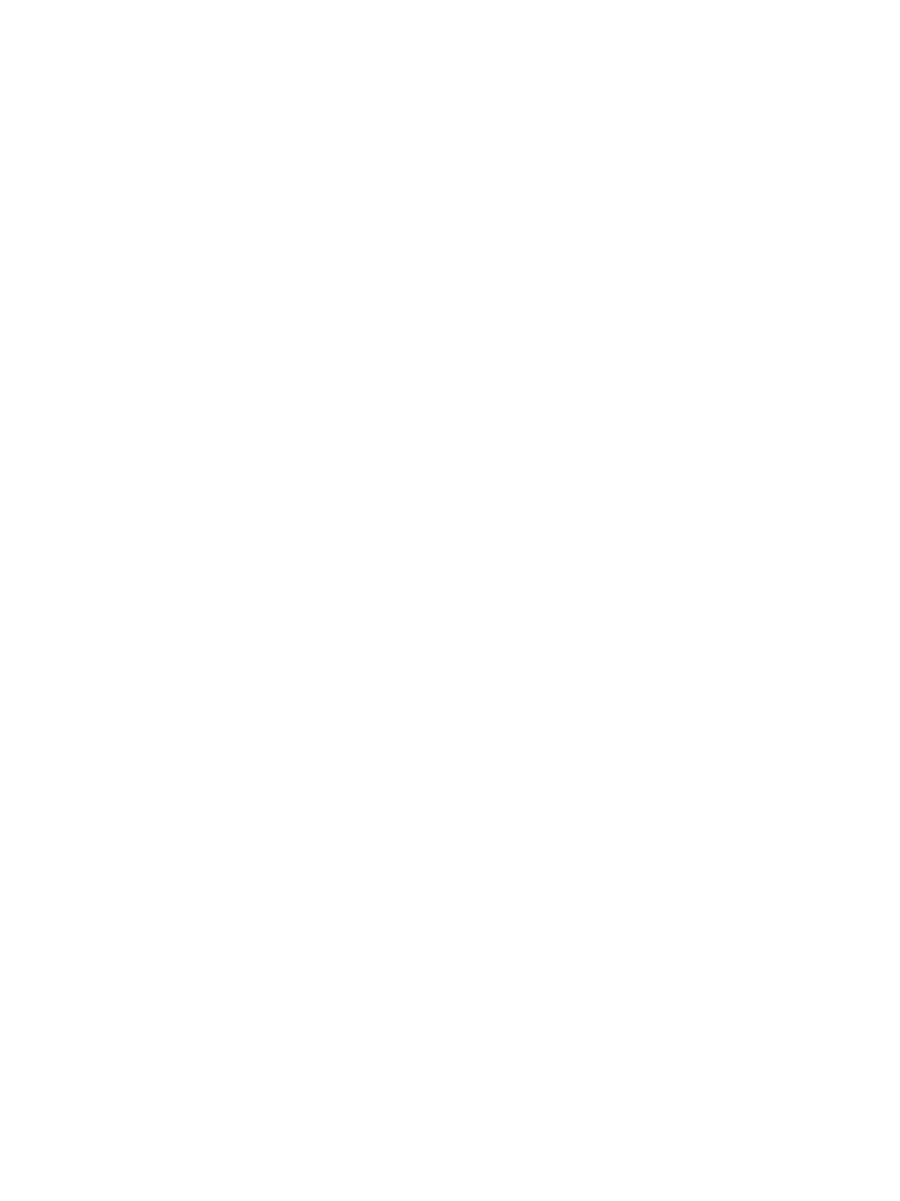Античные мотивы в творчестве О. Э. Мандельштама
Творческую работу по античной литературе выполнила студентка 1 курса факультета филологии Романова Надежда
Рабочий день в университете начинался в девять утра. Я туда приходил к десяти - потому что в десять открывалась библиотека. ... Поскольку я числился сотрудником, а не студентом, у меня было более выигрышное право доступа к книгам. Я их там массу брал. И, в частности, взял Мандельштама "Камень" (потому что слышал звон о книге с таким названием) и "Tristia". ... Вообще есть что-то совершенно потрясающее в первом чтении великого поэта. Ты сталкиваешься не просто с интересным содержанием, а прежде всего - с языковой неизбежностью. Вот что такое, наверное, великий поэт. Да? После этого ты уже говоришь другим языком.
Бродский, действительно, заговорил после этого знакомства другим языком. Главное, что он впитал в свое творчество от первого соприкосновения с поэзией Мандельштама - это торжественная и таинственная атмосфера античности его ранних дореволюционных циклов. Античная тема была не просто кратковременным увлечением поэта. Это была любовь, философия жизни. Это было некое художественное ядро, "творческое солнце", вокруг которого сформировался и зажил собственной жизнью поэтический космос раннего Мандельштама.
Мандельштам открыл для себя античный мир, но не умом, а всем своим творческим существом. В качестве подтверждения достаточно обратиться к воспоминаниям Константина Мочульского о том, как он давал Мандельштаму уроки греческого языка:
Мандельштам открыл для себя античный мир, но не умом, а всем своим творческим существом. В качестве подтверждения достаточно обратиться к воспоминаниям Константина Мочульского о том, как он давал Мандельштаму уроки греческого языка:
Он приходил на уроки с чудовищным опозданием, совершенно потрясенный открывшимися ему тайнами греческой грамматики. Он взмахивал руками, бегал по комнате и декламировал нараспев склонения и спряжения. Чтение Гомера превращалось в сказочное событие; наречия, энклитики, местоимения преследовали его во сне, и он вступал с ними в загадочные личные отношения. Когда я ему сообщил, что причастие прошедшего времени от глагола "пайдево" (воспитывать) звучит "пепайдевкос", он задохнулся от восторга и в этот день не мог больше заниматься. На следующий урок пришел с виноватой улыбкой и сказал: "Я ничего не приготовил, но написал стихи." И, не снимая пальто, начал петь ... Он превращал грамматику в поэзию и утверждал, что Гомер - чем непонятнее, тем прекраснее. Мандельштам не выучил греческого языка, но он отгадал его.
...Забываю тягости и горести,
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог "пепайдевкос"?
И меня преследует вопрос:
Приращенье нужно ли в аористе
И какой залог "пепайдевкос"?
Уже в "Камне" античность становится источником тем и постоянных образов поэта. Важным для понимания мировоззрения Мандельштама в этот период является стихотворение "Silentium" (Молчание)
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
...Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
...Останься пеной, Афродита,
И, слово, в музыку вернись,
И, сердце, сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!
В этих стихах читается стремление найти некую "связь всего живого", слиться с "первоосновой жизни". По этому поводу С. А. Ошеров в своей статье "" Tristia" Осипа Мандельштама и античная лирика" отмечает: "Поиски и нахождение этой связи и слияния, а потом трагическая их утрата - стержень поэзии Мандельштама."
Но оттого, что раннее творчество поэта развивалось в русле символизма, первоосновой жизни здесь является стихия музыки, средство слияния с которой - отказ от "ненужного "я"":
Но оттого, что раннее творчество поэта развивалось в русле символизма, первоосновой жизни здесь является стихия музыки, средство слияния с которой - отказ от "ненужного "я"":
О, широкий ветер Орфея,
Ты уйдешь в морские края -
И, несозданный мир лелея,
Я забыл ненужное "я".
Я блуждал в игрушечной чаще
И открыл лазоревый грот...
Неужели я настоящий
И действительно смерть придет?
В статье "Пушкин и Скрябин" 1915 года Мандельштам пишет: "Личности нет! Я - это преходящее состояние... Время мчится обратно с шумом и свистом, как прегражденный поток, и новый Орфей бросает свою лиру в клокочущий поток."
Сама идея возврата времени, обратного его течения, взята у Вячеслава Иванова:
"И вспять рекой, вскипающей до дна,
К своим верховьям хлынут времена."
Но в приведенной выше статье Мандельштам относит сказанное не к себе, а к Скрябину.
Взгляды поэта менялись. Если в 1910 году он призывал "И, слово, в музыку вернись", то уже в 1913 году в Манифесте "Утро акмеизма" он противопоставил "первоначальной немоте" слово = логос.
В статье "Пушкин и Скрябин" - это противопоставление есть основа всего мыслительного построения: " В древнем мире музыка считалась разрушительной стихией... Эллины не решались предоставить музыке самостоятельность: слово казалось им необходимым противоядием, верным стражем, постоянным спутником музыки. Собственно, чистой музыки эллины не знали, она всецело принадлежит христианству."
Мандельштам утверждал, что христианство лишило музыку ее оргиастического начала, так как оно дало возможность человеческой личности приобрести цельность. Вместо Мелоса (единства музыки и слова) христианство допустило Гармонию - согласованное многозвучие без слова.
"Гармония - это кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени...". Этот "разрез времени" воплощен, по мнению поэта, в христианском искусстве, поскольку оно являет собой "бесконечно разнообразное подражание Христу, вечное возвращение к единому творческому акту, положившему начало нашей исторической эре."
В 1915 году Мандельштам осознал свою концепцию времени, как идею вечного возвращения, но связал ее с христианством. Однако, в стихах концепция вечного возвращения реализуется не в христианской, а в античной теме. На примере стихотворения "Золотистого меда струя..." можно увидеть, как древний архетип просвечивается сквозь сегодняшнее, как будто даже бытовое.
Сама идея возврата времени, обратного его течения, взята у Вячеслава Иванова:
"И вспять рекой, вскипающей до дна,
К своим верховьям хлынут времена."
Но в приведенной выше статье Мандельштам относит сказанное не к себе, а к Скрябину.
Взгляды поэта менялись. Если в 1910 году он призывал "И, слово, в музыку вернись", то уже в 1913 году в Манифесте "Утро акмеизма" он противопоставил "первоначальной немоте" слово = логос.
В статье "Пушкин и Скрябин" - это противопоставление есть основа всего мыслительного построения: " В древнем мире музыка считалась разрушительной стихией... Эллины не решались предоставить музыке самостоятельность: слово казалось им необходимым противоядием, верным стражем, постоянным спутником музыки. Собственно, чистой музыки эллины не знали, она всецело принадлежит христианству."
Мандельштам утверждал, что христианство лишило музыку ее оргиастического начала, так как оно дало возможность человеческой личности приобрести цельность. Вместо Мелоса (единства музыки и слова) христианство допустило Гармонию - согласованное многозвучие без слова.
"Гармония - это кристаллизовавшаяся вечность, она вся в поперечном разрезе времени...". Этот "разрез времени" воплощен, по мнению поэта, в христианском искусстве, поскольку оно являет собой "бесконечно разнообразное подражание Христу, вечное возвращение к единому творческому акту, положившему начало нашей исторической эре."
В 1915 году Мандельштам осознал свою концепцию времени, как идею вечного возвращения, но связал ее с христианством. Однако, в стихах концепция вечного возвращения реализуется не в христианской, а в античной теме. На примере стихотворения "Золотистого меда струя..." можно увидеть, как древний архетип просвечивается сквозь сегодняшнее, как будто даже бытовое.
Золотистого меда струя из бутылки текла
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена — другая, — как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
1917
Так тягуче и долго, что молвить хозяйка успела:
— Здесь, в печальной Тавриде, куда нас судьба занесла,
Мы совсем не скучаем, — и через плечо поглядела.
Всюду Бахуса службы, как будто на свете одни
Сторожа и собаки, — идешь, никого не заметишь.
Как тяжелые бочки, спокойные катятся дни.
Далеко в шалаше голоса — не поймешь, не ответишь.
После чаю мы вышли в огромный коричневый сад,
Как ресницы, на окнах опущены темные шторы.
Мимо белых колонн мы пошли посмотреть виноград,
Где воздушным стеклом обливаются сонные горы.
Я сказал: виноград, как старинная битва, живет,
Где курчавые всадники бьются в кудрявом порядке;
В каменистой Тавриде наука Эллады — и вот
Золотых десятин благородные, ржавые грядки.
Ну, а в комнате белой, как прялка, стоит тишина,
Пахнет уксусом, краской и свежим вином из подвала.
Помнишь, в греческом доме: любимая всеми жена, —
Не Елена — другая, — как долго она вышивала?
Золотое руно, где же ты, золотое руно?
Всю дорогу шумели морские тяжелые волны,
И, покинув корабль, натрудивший в морях полотно,
Одиссей возвратился, пространством и временем полный.
1917
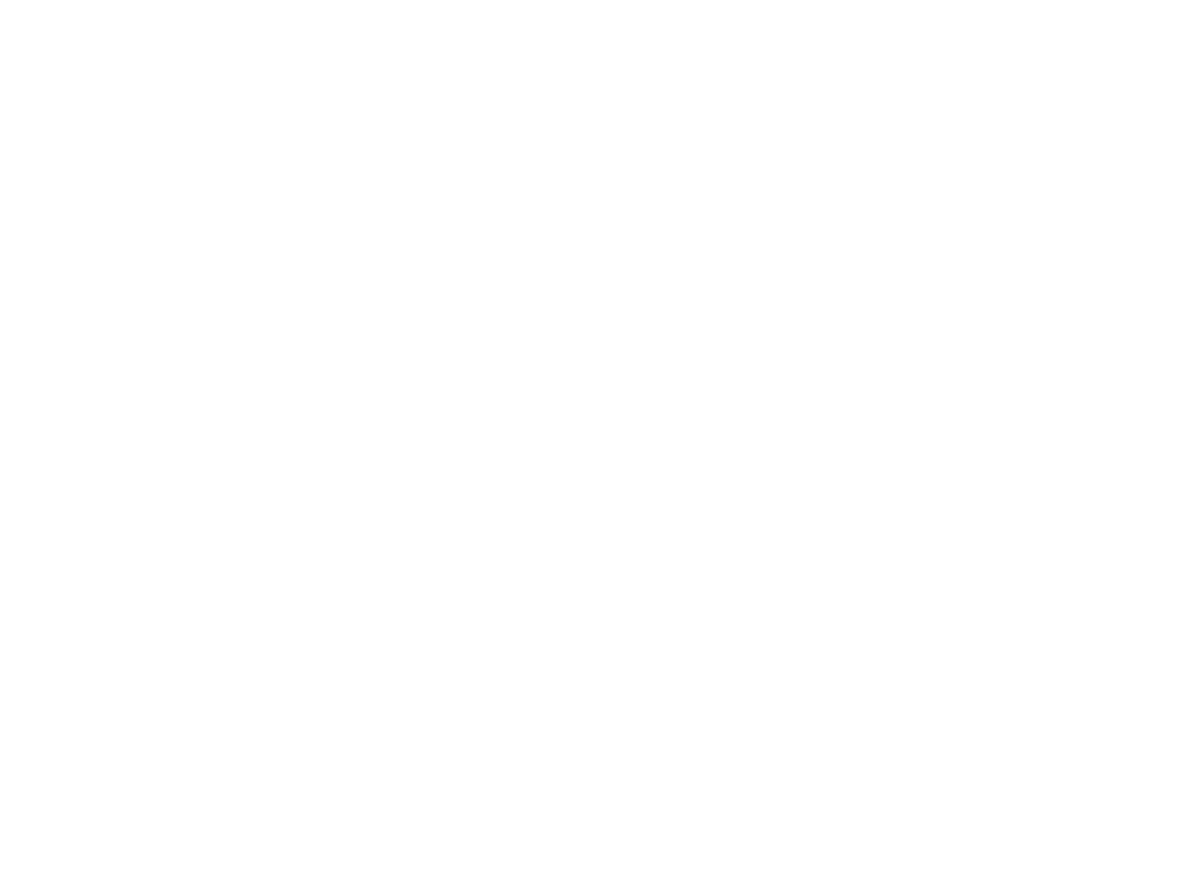
К. Мочульский писал: "Каменистая Таврида казалось ему Элладой и вдохновляла его своими "кудрявыми" виноградниками, древним морем и синими горами."
Классическая древность становится для поэта архетипическим образом самой природы:
"Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И - месяц Цезаря - мне август улыбнулся." (1915)
В другом стихотворении Мандельштама природа приравнивается к Риму. Для поэта Рим - не просто древний город. Рим - это образ вселенной, причем вселенной разумной, управляемой нерушимыми законами. Символом этого мира оказывается его материал - камень. Связь человека с миром оборачивается тут четко отведенным ему местом в иерархии:
"Природа - тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить -
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!" (1914)
Но в этой иерархии менее всего социального смысла. Другие стихи того же года это подтверждают:
"Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной."
Вскоре вселенная Мандельштама утратила жесткость иерархического строения, понадобились другие образы:
"И нынче я не камень,
А дерево пою." (1915)
Теперь связь с первоосновой жизни не указывает человеку его строгое место, а включает его всего: с любовью, переживаниями и смертью. Образом вселенной становится уже не Рим, а, скорее, Греция. Новый образ мира строится даже на основе структуры античной лирики:
Классическая древность становится для поэта архетипическим образом самой природы:
"Да будет в старости печаль моя светла:
Я в Риме родился, и он ко мне вернулся;
Мне осень добрая волчицею была
И - месяц Цезаря - мне август улыбнулся." (1915)
В другом стихотворении Мандельштама природа приравнивается к Риму. Для поэта Рим - не просто древний город. Рим - это образ вселенной, причем вселенной разумной, управляемой нерушимыми законами. Символом этого мира оказывается его материал - камень. Связь человека с миром оборачивается тут четко отведенным ему местом в иерархии:
"Природа - тот же Рим, и, кажется, опять
Нам незачем богов напрасно беспокоить -
Есть внутренности жертв, чтоб о войне гадать,
Рабы, чтобы молчать, и камни, чтобы строить!" (1914)
Но в этой иерархии менее всего социального смысла. Другие стихи того же года это подтверждают:
"Не город Рим живет среди веков,
А место человека во вселенной."
Вскоре вселенная Мандельштама утратила жесткость иерархического строения, понадобились другие образы:
"И нынче я не камень,
А дерево пою." (1915)
Теперь связь с первоосновой жизни не указывает человеку его строгое место, а включает его всего: с любовью, переживаниями и смертью. Образом вселенной становится уже не Рим, а, скорее, Греция. Новый образ мира строится даже на основе структуры античной лирики:
"Но только раз в году бывает разлита
В природе длительность, как в метрике Гомера"
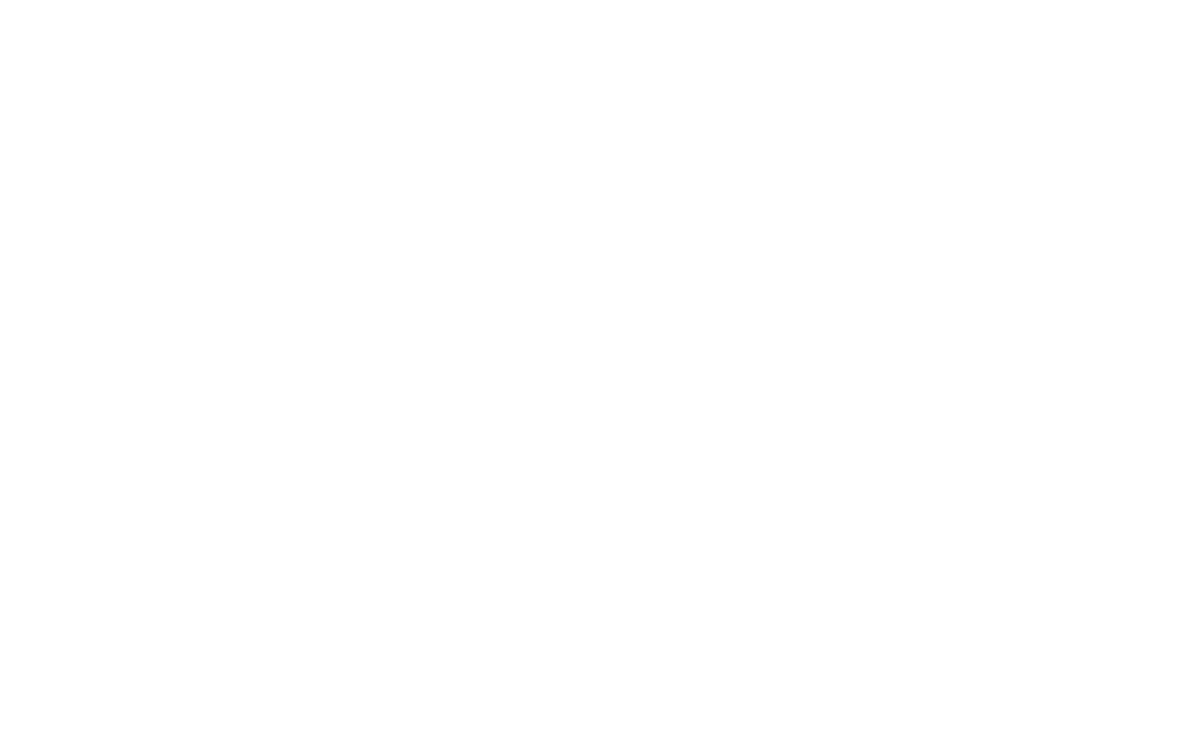
Революция, с одной стороны, освободила общество от груза прошлого. Но, с другой стороны, обновила это прошлое и парадоксальным образом приблизила его. "Революция в искусстве неизбежно приводит к классицизму, - писал Мандельштам. - Часто приходится слышать: это хорошо, но это вчерашний день. А я говорю: вчерашний день еще не родился. Его еще не было по-настоящему. Я хочу снова Овидия, Пушкина, Катулла, и меня не удовлетворяет исторический Пушкин, Овидий, Катулл... Серебряная труба Катулла мучит меня сильнее, чем близкие голоса. Этого нет по-русски. Но ведь это должно быть по-русски. Латинские стихи ... воспринимаются как то, что должно быть, а не как то, что уже было. Итак, ... поэт не боится повторений и легко пьянеет классическим вином..."
Поэт уверен, что то, что было в прошлом, ждет нас в будущем. Прошлое тем и ценно, что оно же и есть будущее. Идея вечного возвращения теряет христианскую окраску, которую мы видели в статье "Пушкин и Скрябин", и связывается даже не с античной поэзией, а поэзией вообще.
Еще в 1916 году Мандельштам писал:
"Я получил блаженное наследство,
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет."
Теперь, два года спустя, идея вечного возвращения приобретает более общий смысл. Раньше подлинность явления современности удостоверялось тем, что в нем просвечивал классический архетип. Теперь через архетип осуществляется связь человека с миром. Эта связь присутствует тогда, когда самое интимное оказывается повторением уже бывшего. Осуществляется вечное возвращение в циклическом обороте времени.
Поэт уверен, что то, что было в прошлом, ждет нас в будущем. Прошлое тем и ценно, что оно же и есть будущее. Идея вечного возвращения теряет христианскую окраску, которую мы видели в статье "Пушкин и Скрябин", и связывается даже не с античной поэзией, а поэзией вообще.
Еще в 1916 году Мандельштам писал:
"Я получил блаженное наследство,
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.
И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет."
Теперь, два года спустя, идея вечного возвращения приобретает более общий смысл. Раньше подлинность явления современности удостоверялось тем, что в нем просвечивал классический архетип. Теперь через архетип осуществляется связь человека с миром. Эта связь присутствует тогда, когда самое интимное оказывается повторением уже бывшего. Осуществляется вечное возвращение в циклическом обороте времени.
«Tristia»
Сборник стихов
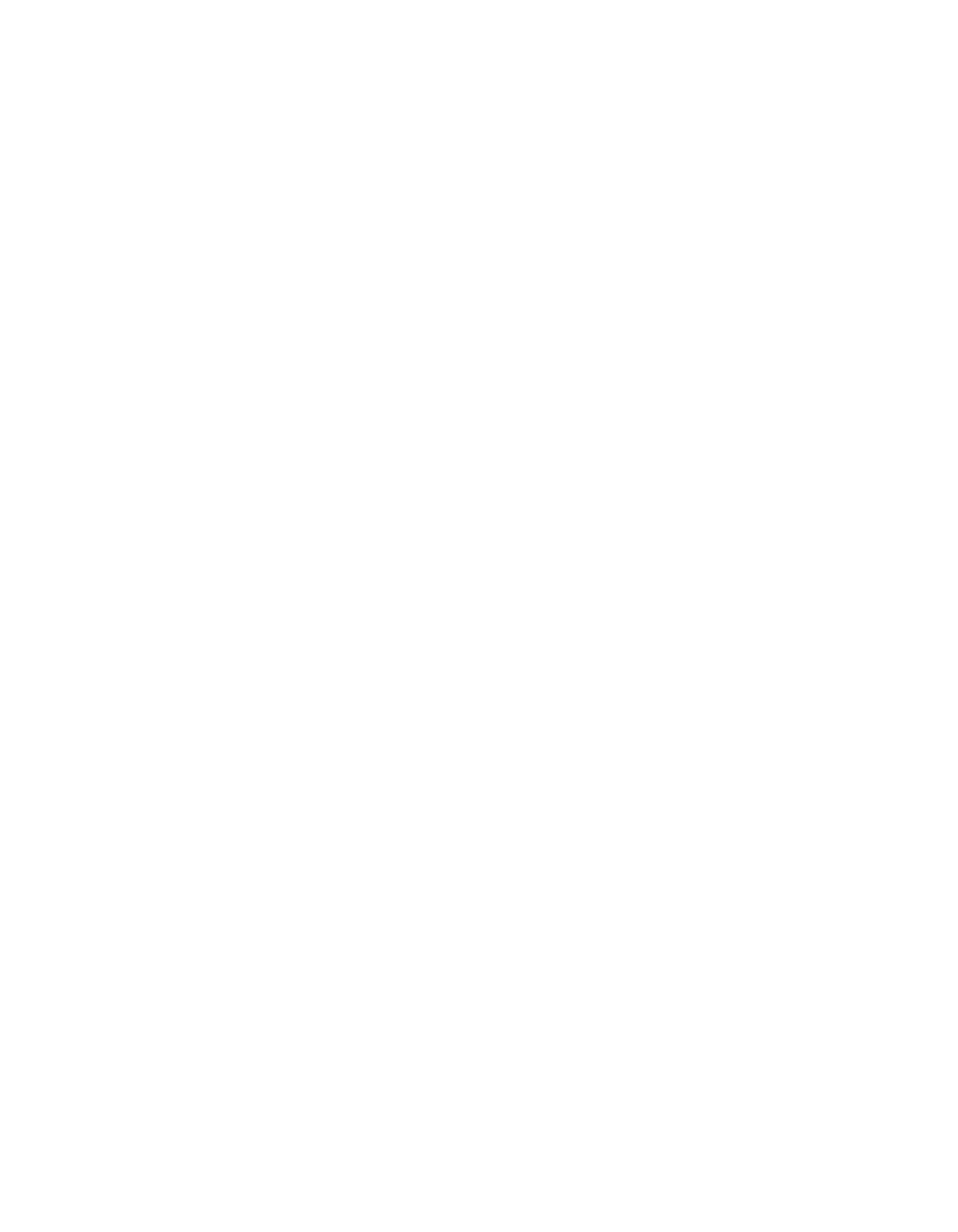
Латинское название стихотворного сборника Мандельштама "Tristia", вышедшего в 1922 г., указывает на жанр антологической поэзии. Однако стихотворения, проникнутые скорбью и чувством конца, близостью смерти и гибели всего родного, не антологичны, а онтологичны. Традиционные темы жизни и смерти погружены как в темные глубины сознания и подсознания, так и освещены светом веры и высшего целеполагания. Страх и надежда, Слово и его воплощение, любовь как темный эрос и как просветление, творчество, в том числе и историческое, как повторение уже бывшего и как привнесение нового, окрыляющего или убийственного, переплетаясь, образуют сложный узор сборника, писавшегося в 20-е годы ХХ в., но обращенного к будущему читателю
Овидий, к которому восходят жанр скорбных (tristia) - элегии, учитель Мандельштама бесконечных "метаморфоз" слова, смыслообразов и символов, превращений традиционных мотивов, перестройки их внутренней структуры, полифония смысловых бумерангов и использования образов в новых контекстах. Многоплановость и контрастность вовлекаемых в текст традиций усиливается сквозными, проходящими сквозь всю поэтическую ткань сборника, образами-загадками, которые то предстают в своей вещественности, то дематериализуются и наделяются новыми смыслами, связанными и с актуальной современностью и своей смысловой перспективой уводящими как в прошлое, так и в будущее. Поэт, наделенный вещим зрением, пристально вглядываясь в давно ушедшее прошлое, чтобы яснее многих своих современников видеть настоящее.
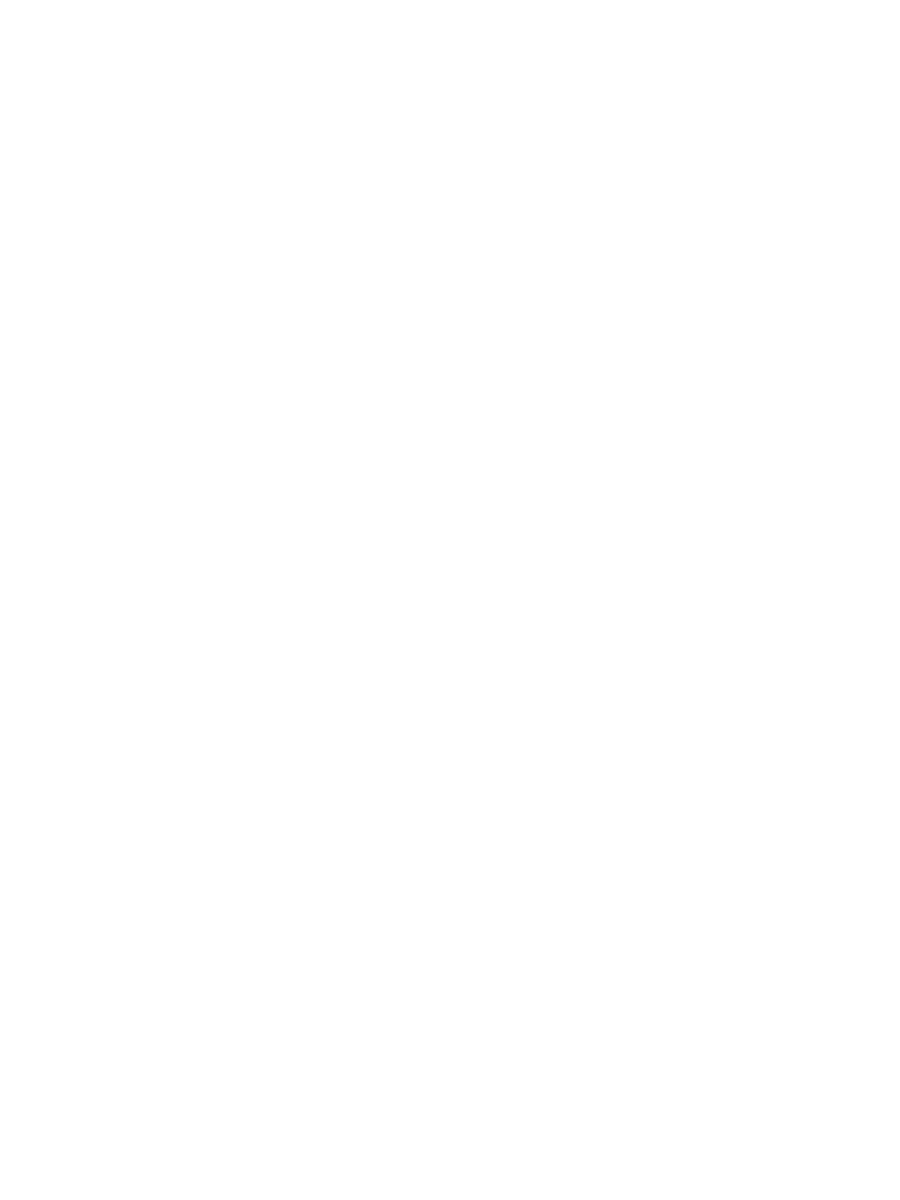
Мандельштам сочетает античную символику и средневековую, библейские сюжеты и мифологию, иудейскую и новозаветную традиции, вовлекает в контекст своих произведений русскую классику и коннотации поэтов-современников. Символы и сюжеты переплетаются, образуя сложный узор просвечивающих сквозь друг друга смысловых референций, составляющих художественно-музыкальное единство.
Сборник открывается стихотворением, в котором смыслообразующим является образ "черного солнца", солнца мертвых. Практически в это же время, в 1923 г., И. Шмелев создает свое лиро-эпическое произведение "Солнце мертвых", в котором, как и Мандельштам, воссоздает картину разрушения всего родного. Традиционный образ-символ "солнце" восходит и к античности, и к Апокалипсису. Солнце, в римские времена отождествляемое с Аполлоном, и солнце, ставшее символом Христа, не меркнет. Солнце чернеет в Апокалипсисе: "...солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь", как указание близкой кончины мира и приближение Страшного Суда. Совмещение солнца и тьмы, солярной и древней хтонической символики, соположение антиномий, апофатический способ поиска истины, ее определение и утверждение через отрицание, — качественные признаки поэтики Мандельштама, прослеживаемые в "Tristia". Образ "черного солнца" восходит к трагедии Еврипида "Ипполит", но его подтексты уводят к таким разнообразным источникам, как сатира Горация, пророк Иоиль, Апокалипсис, Гейне, Нерваль, Вяч. Иванов, В.Брюсов. Для Мандельштама непосредственным источником этого образа послужила трагедия Расина "Федра", которую Мандельштам переводил и включил начало трагедии в третье издание "Камня" (1923).
Сборник открывается стихотворением, в котором смыслообразующим является образ "черного солнца", солнца мертвых. Практически в это же время, в 1923 г., И. Шмелев создает свое лиро-эпическое произведение "Солнце мертвых", в котором, как и Мандельштам, воссоздает картину разрушения всего родного. Традиционный образ-символ "солнце" восходит и к античности, и к Апокалипсису. Солнце, в римские времена отождествляемое с Аполлоном, и солнце, ставшее символом Христа, не меркнет. Солнце чернеет в Апокалипсисе: "...солнце стало мрачно как власяница, и луна сделалась как кровь", как указание близкой кончины мира и приближение Страшного Суда. Совмещение солнца и тьмы, солярной и древней хтонической символики, соположение антиномий, апофатический способ поиска истины, ее определение и утверждение через отрицание, — качественные признаки поэтики Мандельштама, прослеживаемые в "Tristia". Образ "черного солнца" восходит к трагедии Еврипида "Ипполит", но его подтексты уводят к таким разнообразным источникам, как сатира Горация, пророк Иоиль, Апокалипсис, Гейне, Нерваль, Вяч. Иванов, В.Брюсов. Для Мандельштама непосредственным источником этого образа послужила трагедия Расина "Федра", которую Мандельштам переводил и включил начало трагедии в третье издание "Камня" (1923).
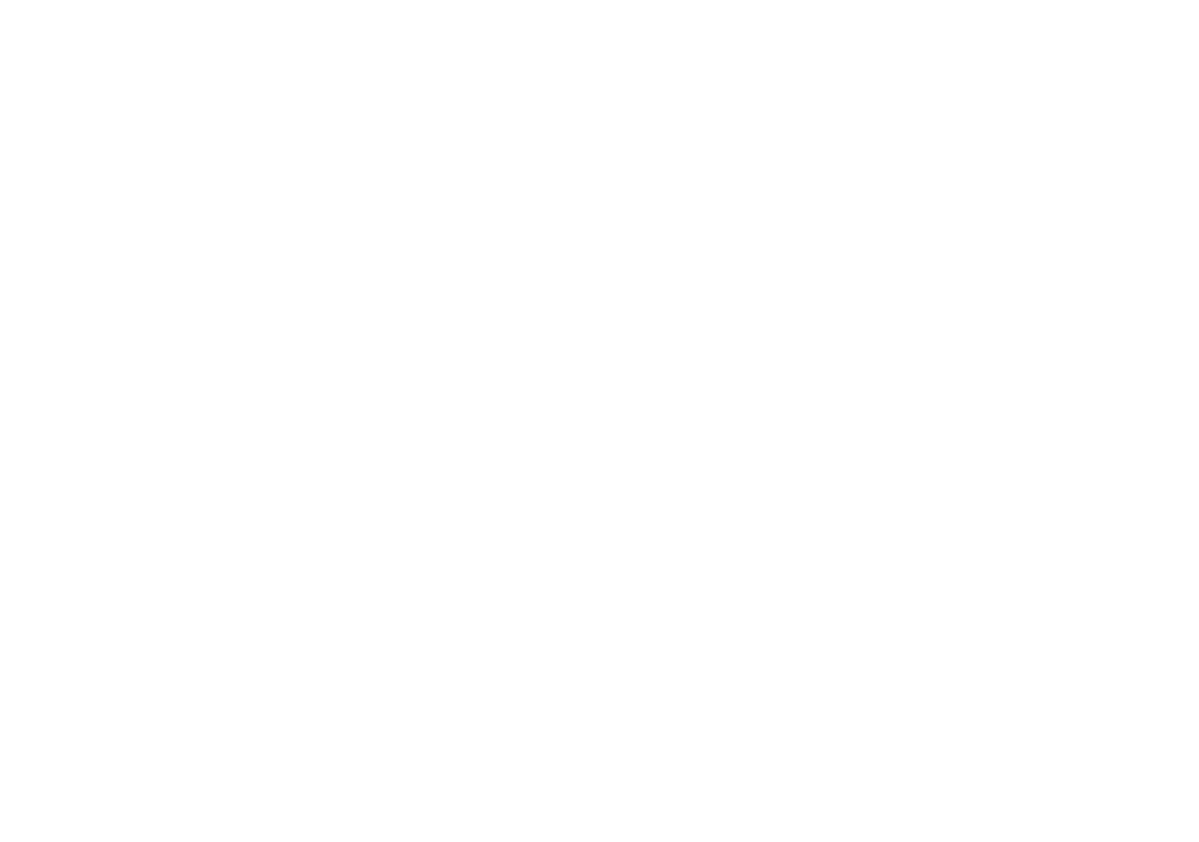
После образа "черного солнца", высвечивающего грех самоубийственной страсти, наступает черед образа мира как зверинца. Эра, "оскорбленная" низкими человеческими страстями и волей к смерти и братоубийству, губит лиру, которая, как и душа современного человека, поет "козлиным голосом". Единственное прибежище для слова "мир" — пещера и светильник. Тема "Зверинца" (1916,1935) — страдающее слово.
Композиция сборника
Композиция "Tristia" сложна. Вошедшие в него 45 стихотворений 1915-1921гг., связанные с друг другом лейтмотивами, мотивами и сквозными образами, создают общую идейно-философскую концепцию. Отношение самого поэта к составу сборника, по сообщению А.Г. Меца, было негативным: "Книга составлена без меня против моей воли безграмотными людьми из кучи понадерганных листков". В "Tristia" выделяются несколько смысловых групп. Это стихи, посвященные Цветаевой, Ахматовой и Арбениной-Гильденбрандт; группа стихотворений о Петрополе, стихотворения-отклики на актуальные исторические события — Первую мировую войну ("Зверинец", "Собирались эллины войною..."), революцию 1917 г. ("Сумерки свободы"), перенос столицы из Петербурга в Москву ("Когда в теплой ночи замирает..."); биографические стихотворения о смерти матери ("Эта ночь непоправима...","Меганон"); "темные", так называемые "Летейские стихи", прямая интерпретация которых затруднена ("Когда Психея-жизнь спускается к теням...", "Ласточка"). Кульминационными для сборника являются "духовные стихотворения" ("Среди священников левитом молодым...", "В хрустальном омуте какая крутизна!" и "Люблю под сводами седыя тишины...").
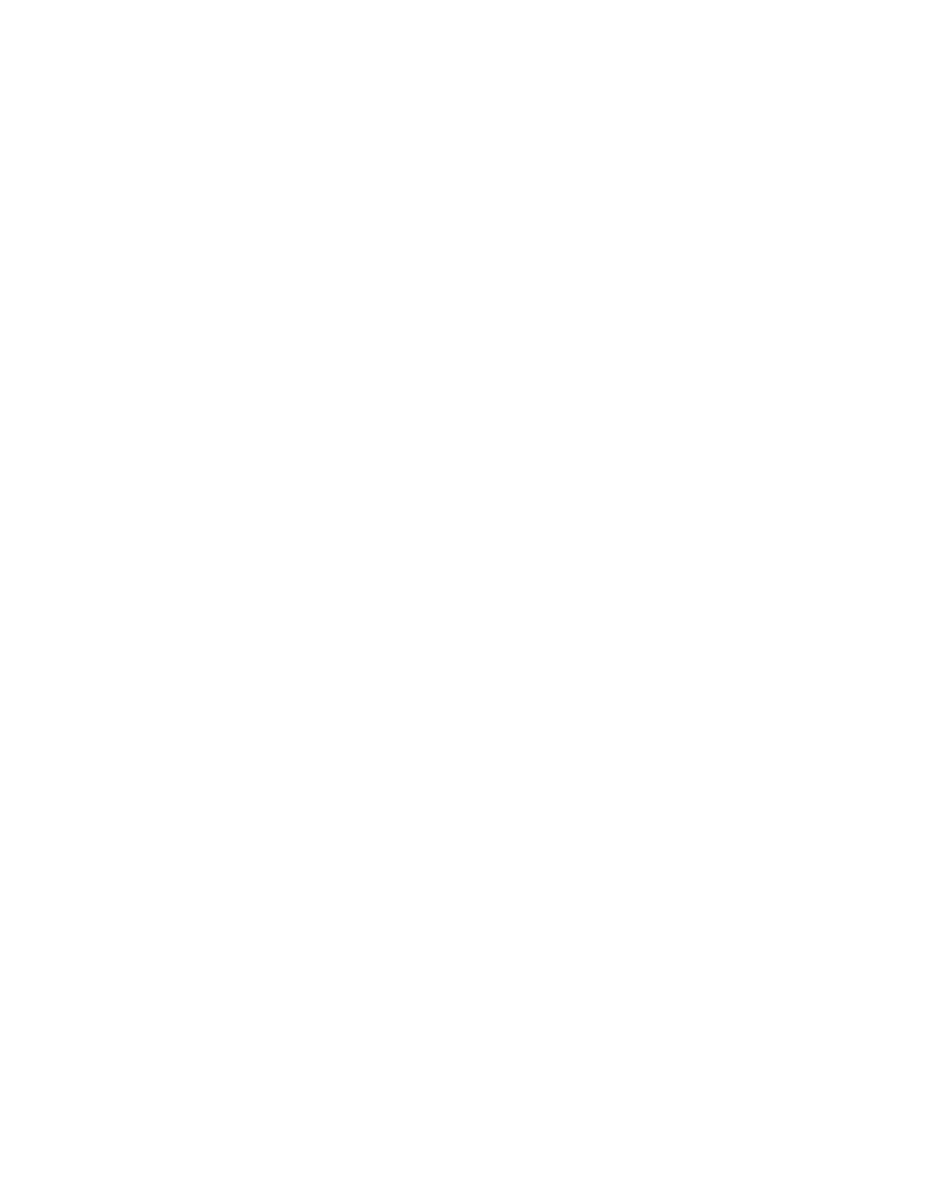
Музыка (православный хор, органная музыка католической мессы, Шуберт, Палестрина), живопись и архитектура (московские соборы, готика), "видеоряд", соотносимый с актуальной современностью ("броневик", "патруль", "часовые"), Петербург, Москва, Тифлис, Феодосия вовлекаются поэтом в многомерное пространство-время, в котором нет четкой границы между живущими и умершими, будущим и прошлым, материальным и духовным. Драматическое напряжение сборника и энергия, пронизывающая единым порывом все стихотворения, рождаются в результате столкновения разнопорядковых, антиномичных смыслов, подключения спорящих друг с другом традиций, "выговаривания" путем отсылок и культурных соположений подразумеваемого, но неназываемого.
В центре сборника одноименное его названию стихотворение "Tristia". Произведения до него пронизаны мрачными предчувствиями гибели и смерти, после него наступает перелом, появляются более светлые тона, иногда даже идиллические ("Черепаха", "В хрустальном омуте какая крутизна..."). Религиозные, или духовные, стихотворения придают сборнику "Tristia абсолютно новое звучание: образы, мотивы, идейно-философская основа, телеологическая перспектива заново переосмысливаются и выявляют ведущую мысль Мандельштама о слове и человеке, истории-культуре и христианстве.
В центре сборника одноименное его названию стихотворение "Tristia". Произведения до него пронизаны мрачными предчувствиями гибели и смерти, после него наступает перелом, появляются более светлые тона, иногда даже идиллические ("Черепаха", "В хрустальном омуте какая крутизна..."). Религиозные, или духовные, стихотворения придают сборнику "Tristia абсолютно новое звучание: образы, мотивы, идейно-философская основа, телеологическая перспектива заново переосмысливаются и выявляют ведущую мысль Мандельштама о слове и человеке, истории-культуре и христианстве.
TRISTIA
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.
1918
Я изучил науку расставанья
В простоволосых жалобах ночных.
Жуют волы, и длится ожиданье —
Последний час вигилий городских,
И чту обряд той петушиной ночи,
Когда, подняв дорожной скорби груз,
Глядели в даль заплаканные очи,
И женский плач мешался с пеньем муз.
Кто может знать при слове «расставанье»,
Какая нам разлука предстоит,
Что нам сулит петушье восклицанье,
Когда огонь в акрополе горит,
И на заре какой-то новой жизни,
Когда в сенях лениво вол жует,
Зачем петух, глашатай новой жизни,
На городской стене крылами бьет?
И я люблю обыкновенье пряжи:
Снует челнок, веретено жужжит.
Смотри, навстречу, словно пух лебяжий,
Уже босая Делия летит!
О, нашей жизни скудная основа,
Куда как беден радости язык!
Все было встарь, все повторится снова,
И сладок нам лишь узнаванья миг.
Да будет так: прозрачная фигурка
На чистом блюде глиняном лежит,
Как беличья распластанная шкурка,
Склонясь над воском, девушка глядит.
Не нам гадать о греческом Эребе,
Для женщин воск, что для мужчины медь.
Нам только в битвах выпадает жребий,
А им дано гадая умереть.
1918
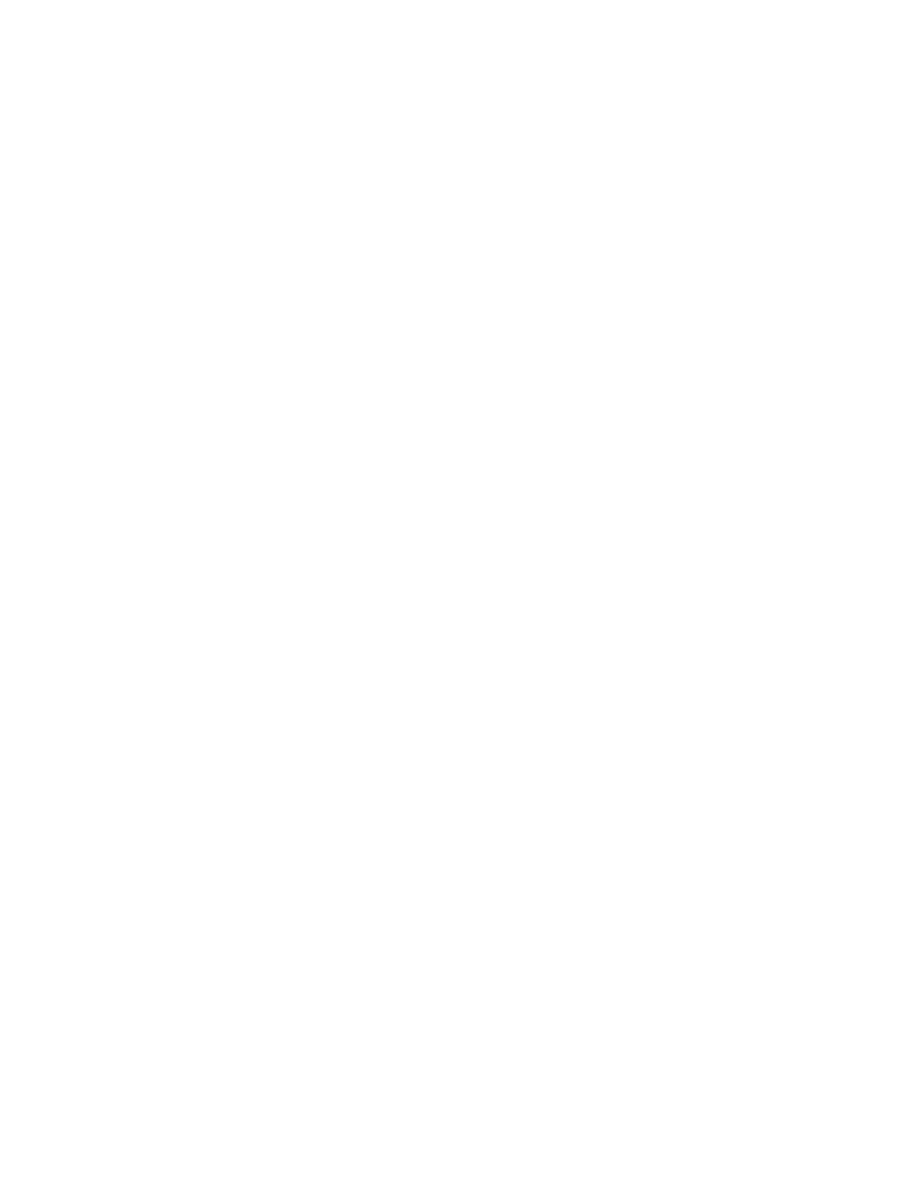
Связь с миром осуществляется через узнавание. Узнать архетип - значит убедиться в причастности мира к его первооснове. Вот как Мандельштам пишет об этом в статье "Слово и культура": "Когда любовник в тишине путается в нежных именах и вдруг понимает, что все это уже было: и слова, и волосы, и петух, который прокричал за окном, уже кричал в овидиевых тристиях, глубокая радость повторения охватывает его, головокружительная радость."
Поэзия Мандельштама обычно предстает перед читателем темной и загадочной, особенно для непосвященных; есть основания полагать, что сам поэт иногда хочет, чтобы это было так. Некоторые его стихи — настоящие поэтические шарады. «... Поэзия, как целое, — считал Мандельштам, — всегда направляется к более или менее далекому, неизвестному адресату, в существовании которого поэт не может сомневаться, не усомнившись в себе.» У Мандельштама есть стихи, очаровывающие простыми фонетическими ассоциациями, которые превосходят поэтический logos. Одновременное «полифоническое» развитие нескольких семантически не связанных друг с другом тем, что является одной из наиболее характерных для поэзии Мандельштама черт, также способствует впечатлению затемненности смысла. В определенной степени характеристика Мандельштамом Хлебникова как создателя «поэтического сырья» может быть отнесена к нему самому. Несмотря на это, Мандельштам является искренним сторонником поэтического Логоса, который он определил как сознательный смысл слова. Поэтому долг читателя принять вызов даже самых сложных его стихов и найти в них Логос.
Слова Мандельштама, в общих чертах определяющие эстетику и эллинизм и могущие относиться и к его собственным стихам: «Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое Я.» Идеи Мандельштама в области философии языка, эстетики и поэтической теории, которые он считает «эллинизмом», имеют лишь не явную и косвенную связь с миром классики.
Слова Мандельштама, в общих чертах определяющие эстетику и эллинизм и могущие относиться и к его собственным стихам: «Эллинизм — это сознательное окружение человека утварью вместо безразличных предметов, превращение этих предметов в утварь, очеловечение окружающего мира, согревание его тончайшим телеологическим теплом. Эллинизм — это система в бергсоновском смысле слова, которую человек развертывает вокруг себя как веер явлений, освобожденных от временной зависимости, соподчиненных внутренней связи через человеческое Я.» Идеи Мандельштама в области философии языка, эстетики и поэтической теории, которые он считает «эллинизмом», имеют лишь не явную и косвенную связь с миром классики.
Главным объектом в понимании Мандельштамом эллинизма является слово. Используя определение самого поэта, «слово, в эллинистическом понимании есть плоть деятельная, разрешающаяся в событие». Его «можно рассматривать не только как объективную данность сознания, но и как органы человека, совершенно так же точно, как печень, сердце»; это понимание, которое приводит в поэтике «биологического характера». Можно понимать его и как «живое слово», которое блуждает вокруг вещи «свободно, как душа вокруг брошенного, но не забытого тела». Слово, как оно определено в предыдущих цитатах, — часто встречающийся мотив в мандельштамовских стихах. Именно это имели в виду Г. Струве и Б. Филиппов, говоря о «словесном очаровании», присущем поэзии Мандельштама. Конечно, такое определение не является конкретным и в очень малой степени имеет отношение к греческому, хотя в греческой философии есть более тонкая и изящная формулировка.
«Эллинизм» в языке приравнивается Мандельштамом к «филологизму», т. е. любви и уважению к слову как таковому. Слово, природа которого «эллинистическая», есть, по мнению Мандельштама, величайшее и, может быть, единственное сокровище русской культуры. Самое ужасное, что может случиться с Россией, — это победа врагов слова, которые разрушили бы его живую душу, сделав бездумным, не более чем средством общения или, что еще более эгоистично, просто орудием самовыражения. Мандельштам считает, что его век — это эпоха преступного разрушения слова. В известном смысле объяснимо и то, что Мандельштам называет свой филологизм «эллинизмом». Цивилизация Эллады и Рима, традиция которых отмирает во времена Мандельштама, была сосредоточена в слове, в его художественной обработке, его применении как главного средства выражения мысли и его ведущей роли в попытке человека познать мир. Между тем, эти мысли, сходные со взглядами Мандельштама, были в то время — и сейчас остаются — актуальными в феноменологической и экзистенциальной эстетике и лингвистике. Сейчас широко распространена тенденция возвращения доплатоновского представления о том, что язык является скорее живой материей, чем просто средством общения. Понятие о том, что функции языка (особенно поэтического) не исчерпываются общением и что — используя выражение Валери — в нем присутствуют «воплощенные смысловые связи», является locus communis в поэзии XX века.
«Эллинизм» в языке приравнивается Мандельштамом к «филологизму», т. е. любви и уважению к слову как таковому. Слово, природа которого «эллинистическая», есть, по мнению Мандельштама, величайшее и, может быть, единственное сокровище русской культуры. Самое ужасное, что может случиться с Россией, — это победа врагов слова, которые разрушили бы его живую душу, сделав бездумным, не более чем средством общения или, что еще более эгоистично, просто орудием самовыражения. Мандельштам считает, что его век — это эпоха преступного разрушения слова. В известном смысле объяснимо и то, что Мандельштам называет свой филологизм «эллинизмом». Цивилизация Эллады и Рима, традиция которых отмирает во времена Мандельштама, была сосредоточена в слове, в его художественной обработке, его применении как главного средства выражения мысли и его ведущей роли в попытке человека познать мир. Между тем, эти мысли, сходные со взглядами Мандельштама, были в то время — и сейчас остаются — актуальными в феноменологической и экзистенциальной эстетике и лингвистике. Сейчас широко распространена тенденция возвращения доплатоновского представления о том, что язык является скорее живой материей, чем просто средством общения. Понятие о том, что функции языка (особенно поэтического) не исчерпываются общением и что — используя выражение Валери — в нем присутствуют «воплощенные смысловые связи», является locus communis в поэзии XX века.
«Эллинистическая» и классическая» природа поэзии Мандельштама долгое время считалась само собой разумеющейся. Но есть в этом некоторая неточность — если здесь подразумевается то, что поэтический стиль Мандельштама схож с греческой и латинской поэзией в целом или творчеством каких-либо определенных поэтов античности. Лишь о поэтах более позднего времени, и к тому же весьма утонченных (таких, как Овидий), можно сказать, что их стихи являются «воплощением литературы», что верно и о парнасцах, и о Мандельштаме. Мандельштам пошел даже дальше, чем парнасцы, в исключении из своей поэзии всего, что есть «непоэзия» (по выражению Кроче). В мандельштамовской поэзии мало риторики, в отличие от Горация, Овидия и даже Катулла. Действительно, ранний Мандельштам — это типичный doctus poeta, который любит блеснуть своей эрудицией, и эта черта объединяет его со многими современными поэтами, но отнюдь не со всеми древними.
Стремление Мандельштама свести поэзию к «чистому языку» исключением паралингвистических элементов абстрактной мысли и логики, субъективных эмоций, личного участия, повседневности напоминает скорее Малларме или Валери, но ни одного из античных поэтов. Стихи Мандельштама можно назвать полифоническими словесными композициями с многомерным (ритмическим, архитектоническим, эвфоническим, синаэстетическим, эмоциональным и интеллектуальным) выразительным эффектом. Иногда, это не закономерность: можно найти подобный эффект и у Пиндара, и у эолийских поэтов — но у Малларме, Стефана Георге или Мандельштама он является сознательно преследуемой целью. Это вовсе не характерно для греческой и латинской поэзии. И. Бушман пытается продемонстрировать влияние классических размеров на форму мандельштамовской поэзии. Это наблюдение верно лишь относительно нескольких примеров: некоторые стихотворения, посвященные классическим темам (например, «Есть иволги в лесах...» или «Природа — тот же Рим...»), кажутся имитацией неторопливого, размеренного ритма греческой и латинской поэзии, а стихотворение «К немецкой речи» как бы повторяет немецкие характерные сочетания звуков.
Стремление Мандельштама свести поэзию к «чистому языку» исключением паралингвистических элементов абстрактной мысли и логики, субъективных эмоций, личного участия, повседневности напоминает скорее Малларме или Валери, но ни одного из античных поэтов. Стихи Мандельштама можно назвать полифоническими словесными композициями с многомерным (ритмическим, архитектоническим, эвфоническим, синаэстетическим, эмоциональным и интеллектуальным) выразительным эффектом. Иногда, это не закономерность: можно найти подобный эффект и у Пиндара, и у эолийских поэтов — но у Малларме, Стефана Георге или Мандельштама он является сознательно преследуемой целью. Это вовсе не характерно для греческой и латинской поэзии. И. Бушман пытается продемонстрировать влияние классических размеров на форму мандельштамовской поэзии. Это наблюдение верно лишь относительно нескольких примеров: некоторые стихотворения, посвященные классическим темам (например, «Есть иволги в лесах...» или «Природа — тот же Рим...»), кажутся имитацией неторопливого, размеренного ритма греческой и латинской поэзии, а стихотворение «К немецкой речи» как бы повторяет немецкие характерные сочетания звуков.
И все-таки Мандельштам, поэт-модернист, может по праву называться эллинистом. Он заслужил это звание тем, что сумел, опустившись в поток времени, извлечь оттуда (я использую метафору Стефана Георге) подлинные фрагменты древнего мира, образы Эллады и Рима, которые, по мнению Бергсона, являются чудом исторического интуитивизма. Мандельштаму удалось сделать это благодаря силе своего воображения (и конечно, эрудиции), хотя и не без помощи очень сильной классической традиции в русской поэзии. Эта традиция имеет два отличных друг от друга ответвления. Одно основано на имитации французского классицизма и имеет лишь поверхностную и косвенную связь с греческими и латинскими оригиналами. Другое произросло на русской почве из гуманитарной школьной системы России XIX столетия и выдвинуло ряд филологов-классиков, которые также были хорошими поэтами (Анненский, Вячеслав Иванов), и поэтов, которые были хорошими филологами-классиками (Фет, Брюсов).
Мандельштам не относится ни к одному из этих направлений. Хотя он восхищался Державиным и в своих статьях много говорил о «неоклассицистской» природе акмеизма (что относил и к своей поэзии), среди его стихов есть лишь несколько примеров, соответствующих эстетическому канону русского классицизма. Чаще всего акцент в мандельштамовской интерпретации классической (или классицистической) темы делается именно на «современности», а не на «классическом» аспекте.
Литература и интернет-ресурсы
- Tristia О. Мандельштама традиция - текст - поэтика. Светлана Федоровна Кузьмина
- Гаспаров М. О русской поэзии. СПб., 2001.
- Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. Л., 1976.
- Мандельштам и античность Сборник статей т.7 (В. И. ТЕРРАС КЛАССИЧЕСКИЕ МОТИВЫ В ПОЭЗИИ ОСИПА МАНДЕЛЬШТАМА)
- Мандельштам О. Соч. В 2 т. М., 1990.
- Русская виртуальная библиотека: О.Э. Мандельштам